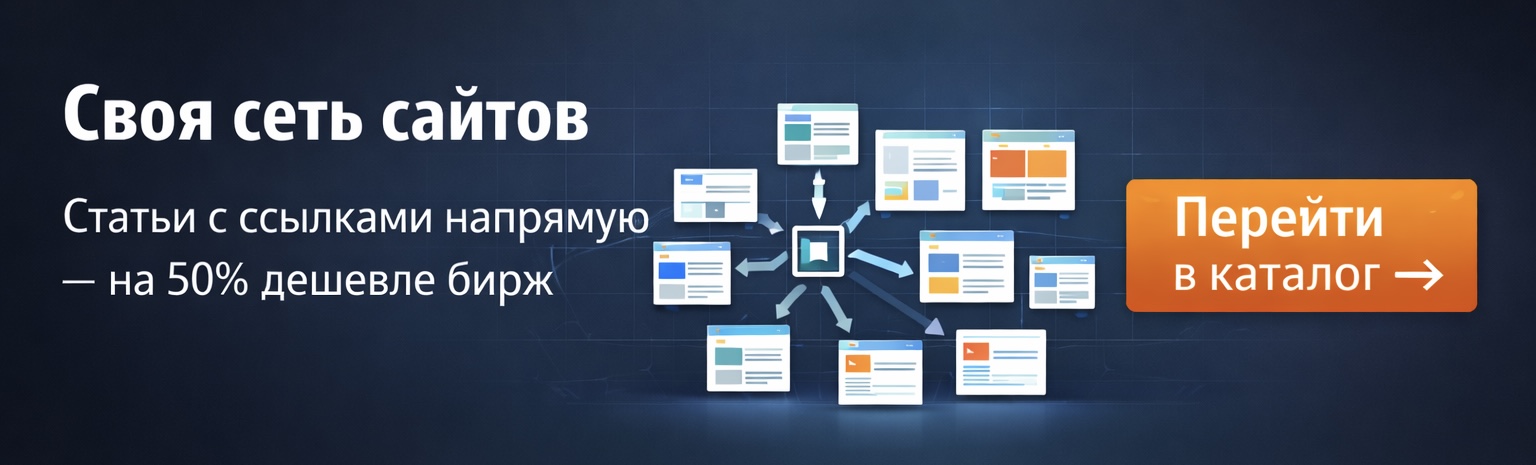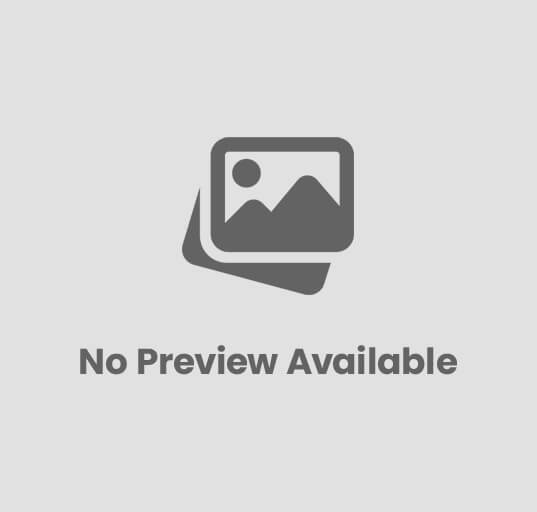Недосказанный потенциал позднесоветских think tank’ов
Работая в начале девяностых над коммерциализацией статистических бюро, я столкнулся с парадоксом: интеллектуальный капитал, выращенный задолго до рынка, оказался конкурентоспособнее свежих консалтинговых структур. Позднесоветские аналитические центры, зародившиеся внутри отраслевых НИИ и проектных управлений, быстро перешли к сервисной модели, опираясь на накопленные алгоритмы планирования.

Генезис сетей
К концу семидесятых внутренние кружки прогнозистов при Госплане создали устойчивое сообщество, пользовавшееся термином «экзаптивный ресурс» — заимствованная у биологов метафора, описывающая повторное применение решений, придуманных под иные задачи. Финансирование шло по статье «экспериментальные работы», штат формировался из инженеров-экономистов с навыками в системной динамике.
Часть групп работала полулегально, формируя «теневые кабинеты» при заводах-гигантах. Для бизнеса конца восьмидесятых эти команды сыграли роль навигационных огней: их модели балансов спроса-предложения помогли предпринимателям избежать грубых ошибок запуска.
Организационный дизайн
В отличие от западных think tank’ов, позднесоветские коллективы строились вокруг базовой ячейки «проектор + два аналитика + секретарь с допуском к копировальной технике». Операционный бюджет распределялся сквозь каскад субсчетов, защищающих группу от инспекций. Такой подход укрепил внутреннюю лояльность, но создал зависимость от централизованных лимитов ресурсов.
Горизонтальные связи развивались через самиздат-«толстушки» — многотомные подборки секториальных обзоров, распространявшиеся по закрытому списку. Термин «фугу-менеджмент» прижился в кругах экономистов: подобно приготовлению ядовитой рыбы фугу, работа требовала филигранного соблюдения формальных правил ради возможности вывести результаты наружу.
Полоса турбулентности
Перестройка сместила контекст: прежние гранты исчезли, федеральные заказы рассосались, зато открылись партийные фонды и первые валютные счета. Я курировал сделку, в ходе которой лаборатория при НИИ цветной металлургии превратилась в АО с венчурным капиталом. Линии поведения персонала напоминали «патафизику повседневности» Альфреда Жарри: каждая процедура обрастала условностями, подменявшими цель.
Главная трудность адаптации — управленческая память. Прежняя матрица подразумевала единого заказчика в лице государства. Маркетинговые механизмы отсутствовали, репутация формировалась внутри внутриведомственной иерархии. После 1991 года центры предлагали услуги банкам, сырьевым холдингом, региональным администрациям, однако их язык отчётов оставался проникнутым плановой лексикой.
Смена институтов стимулировала появление гибридов: часть экспертов вышла на рынок консалтинга, часть ушла в политику, малая доля создала спин-оффы, специализирующиеся на конкурентной разведке. Способность к самообновлению зависела от двух факторов: контрактной гибкости и навыков коммерческой презентации.
Осмысляя опыт, я вывожу стратегическое правило: интеллектуальный узел, выращенный в условиях монопольной экономики, сохраняет эффективность, пока не нарушается связь «данные — интерпретация — рычаг влияния». При разрыве одного звена система впадает в гомеостатический ступор. Поэтому иногдавестору стоит проверять наличие независимых источников данных и устойчивых каналов внедрения выводов.